


Маститый писатель выступал в кафе под аккомпанемент композитора и фаготиста Александра Александрова, — что, согласимся, само по себе — выразительная примета времени. Русская литература, вчера бывшая элитарным занятием на правительственной дотации (и под правительственным надзором), сегодня утратила последние крохи своей самодостаточности и перебивается странными заработками.
Чтению Битов предпослал вступительное слово, где рассказал, что в прошлом году выпустил в России главную работу своей жизни, книгу Империя в четырех измерениях. Это не собрание сочинений, а — «скорее супер-книга в духе Пруста»: множество отдельных произведений, связанных одной линией. (В России теперь все помешались на слове супер, которое часто идет не к месту; есть, например, мороженое «супер-трубочка» и даже — «супер-цены», то есть, надо полагать, цены завышенные; при этом дефис опускают, и супер становится полноправным словом русского языка.)
В книге четыре части: Петроградская сторона, Пушкинский дом, Кавказский пленник и Оглашенный. Все они переведены на английский — и даже раньше вышли на Западе, так как изданию в России препятствовала сначала идеология, а затем — экономика. Выступление было, собственно, представлением недавно выпущенного компактного диска, который писатель считает как бы заключением своей главной книги. На обложках диска — известные картинки: одна — с коробки папирос Казбек (романтический всадника в бурнусе), другая — с коробки папирос Беломорканал (романтика совсем иного рода). Битов, между прочим, установил, что первый из этих рисунков принадлежит художнику эпохи серебряного века Лансере, второй — советскому дизайнеру Маниовичу.
В частности, Битов сказал:

Я стал как бы соиздателем своих книг. Я требую от книги не только напечатанного текста. Книга — это идея, идущая от автора, вместе с оформлением и расположением текста, и я требую от нее того, что я хочу. Получаются небольшие тиражи и довольно дорогие книжки. Более важна мифология книги, чем ее распространение. И тем не менее, она живет как объект. С 91-го года я издал уже около 10 книг. За первую книгу, вышедшую в 92-м году, я заплатил собственные доллары. Но зато мне издали очень сложный макет, очень сложную книгу по полиграфии, всего 1000 экземпляров. Называется она Вычитание зайца. Это рассказанная шесть раз одна и та же история (в разных жанрах, но одна и та же) о том, как заяц перебежал дорогу Пушкину в 1825 году. История очень серьезная, потому что благодаря этому зайцу Пушкин не попал к декабристам и в Сибирь.
 Эта замечательная история всю жизнь меня гипнотизировала, и в конце концов я пришел к определенным выводам о роли зайца в русской культуре. Но когда я ходил с подписным листом в ресторане центрального Дома литераторов, то все считали, что я собираю на водку, и никто мне денег не дал — на этот памятник зайцу, который я решил воздвигнуть. Но я понял, что, как говорил Корней Чуковский, писатель в России должен жить долго — тогда он увидит какие-то результаты. И вот не так давно, примерно с год назад, в сопровождении администрации области, целого шлейфа правительственных машин, мы с Резо Габриадзе, моим другом, выбирали место для памятника зайцу. Это был один из самых счастливых моментов моей жизни. Мы с трудом сдерживали смех — бывает такой смех исторического счастья. Мы старались сохранять серьезные лица и говорили с академическим видом: «Нет, здесь он не мог перебежать. Судя по нашим сведениям, он мог перебежать дорогу здесь…». И вся эта мафия очень серьезно нам внимала. Наконец, я нашел какое-то место и сказал: «Здесь будет заяц заложён!» — и пометил место. Гонорар, как вы понимаете, не измеряется деньгами, он измеряется удовлетворением… Вот это была моя первая книжка, ее очень богато иллюстрировал великий художник Резо Габриадзе, великий режиссер марионеток, — кажется, он скоро будет в Англии с великим своим спектаклем. У него сейчас был грандиозный успех на фестивале в Авиньоне. И вот мы с ним возведем этого зайца по крайней мере к 99-му году, когда будет 200-летие Пушкина. Главная вещь из этой книги, которая называется Фотография Пушкина, уже переведена на английский, опубликована в Америке, в сборнике коротких рассказов После перестройки. … Я в мае прошел через серьезный юбилей, через 60-летие, и справил его в Петербурге, на родине. И к этому юбилею вышло несколько книжек, в частности, Новый Гулливер, в издательстве Эрмитаж Игоря Ефимова. Не знаю, как ее распространять, потому что она издана в Америке… -
Эта замечательная история всю жизнь меня гипнотизировала, и в конце концов я пришел к определенным выводам о роли зайца в русской культуре. Но когда я ходил с подписным листом в ресторане центрального Дома литераторов, то все считали, что я собираю на водку, и никто мне денег не дал — на этот памятник зайцу, который я решил воздвигнуть. Но я понял, что, как говорил Корней Чуковский, писатель в России должен жить долго — тогда он увидит какие-то результаты. И вот не так давно, примерно с год назад, в сопровождении администрации области, целого шлейфа правительственных машин, мы с Резо Габриадзе, моим другом, выбирали место для памятника зайцу. Это был один из самых счастливых моментов моей жизни. Мы с трудом сдерживали смех — бывает такой смех исторического счастья. Мы старались сохранять серьезные лица и говорили с академическим видом: «Нет, здесь он не мог перебежать. Судя по нашим сведениям, он мог перебежать дорогу здесь…». И вся эта мафия очень серьезно нам внимала. Наконец, я нашел какое-то место и сказал: «Здесь будет заяц заложён!» — и пометил место. Гонорар, как вы понимаете, не измеряется деньгами, он измеряется удовлетворением… Вот это была моя первая книжка, ее очень богато иллюстрировал великий художник Резо Габриадзе, великий режиссер марионеток, — кажется, он скоро будет в Англии с великим своим спектаклем. У него сейчас был грандиозный успех на фестивале в Авиньоне. И вот мы с ним возведем этого зайца по крайней мере к 99-му году, когда будет 200-летие Пушкина. Главная вещь из этой книги, которая называется Фотография Пушкина, уже переведена на английский, опубликована в Америке, в сборнике коротких рассказов После перестройки. … Я в мае прошел через серьезный юбилей, через 60-летие, и справил его в Петербурге, на родине. И к этому юбилею вышло несколько книжек, в частности, Новый Гулливер, в издательстве Эрмитаж Игоря Ефимова. Не знаю, как ее распространять, потому что она издана в Америке… -
Зал кафе Руж едва вместил всех желающих. Ценителей у Битова много. Однако писатель несколько удивил собравшихся тем, что, помимо прозы, читал еще и стихи собственного сочинения. Пояснил он это так:
— Обычно говорят, что люди начинают со стихов, потом переходят на прозу, а я поступил в обратном порядке. Я издал две книги стихов, тоже к своему юбилею. Точнее, это уже делал не я, а те люди, которые хотели это сделать для меня. Одна тоже издана (или вот-вот будет издана) в Америке, в Нью-Йорке. Она называется Жизнь без нас, это такая горестная эпопея смерти всего нашего поколения, конца века и так далее.
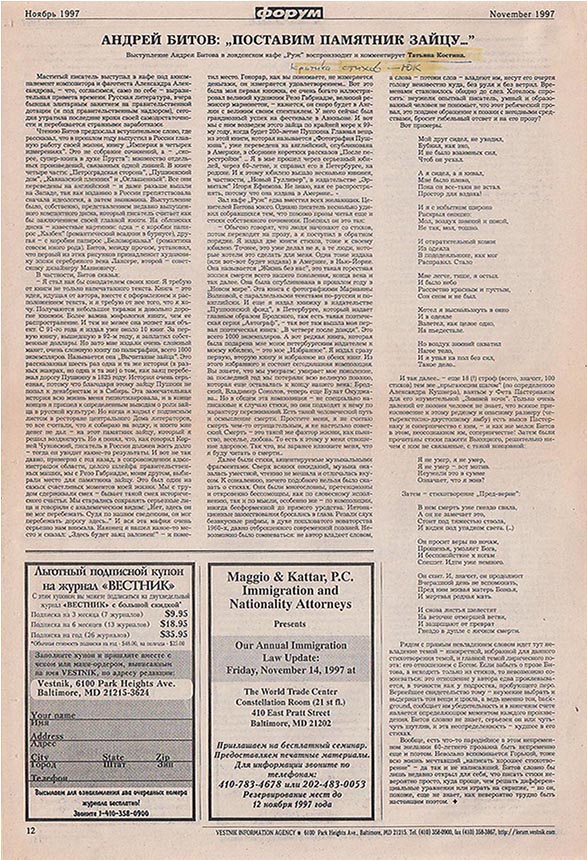 Она была опубликована в прошлом году в Новом мире. Эта книга с фотографиями Марианны Волковой, с параллельными текстами по-русски и по-английски. И еще я издал книжку в издательстве Пушкинский фонд в Петербурге, который издает главным образом Бродского, там есть такая поэтическая серия Автограф, — так вот там вышла моя первая поэтическая книга: В четверг после дождя. Это всего 1000 экземпляров. А вот редкая книга, которая была подарена мне моим петербургским издателем к моему юбилею, это мое Избранное. Я издал сразу первую, вторую книгу и избранное из обеих книг. Из этого избранного и состоит сегодняшняя композиция. Вы знаете, что мы умираем: умирает мое поколение, за последний год мы потеряли всю великую поэзию, которая еще оставалась к концу нашего века: Бродский, Владимир Соколов, теперь еще Булат Окуджава… Но в общем эта композиция — не специально написанные к случаю стихи, но они подходят к нему по характеру переживаний. Есть такой человеческий путь и осмысление смерти. Простите меня, я не считаю смерть чем-то отрицательным, я не настолько советский. Смерть — это такой же фактор жизни, как пьянство, веселье, любовь. То есть, к этому у меня отношение здоровое. Так что, вы заранее извините меня, что я буду читать о смерти… —
Она была опубликована в прошлом году в Новом мире. Эта книга с фотографиями Марианны Волковой, с параллельными текстами по-русски и по-английски. И еще я издал книжку в издательстве Пушкинский фонд в Петербурге, который издает главным образом Бродского, там есть такая поэтическая серия Автограф, — так вот там вышла моя первая поэтическая книга: В четверг после дождя. Это всего 1000 экземпляров. А вот редкая книга, которая была подарена мне моим петербургским издателем к моему юбилею, это мое Избранное. Я издал сразу первую, вторую книгу и избранное из обеих книг. Из этого избранного и состоит сегодняшняя композиция. Вы знаете, что мы умираем: умирает мое поколение, за последний год мы потеряли всю великую поэзию, которая еще оставалась к концу нашего века: Бродский, Владимир Соколов, теперь еще Булат Окуджава… Но в общем эта композиция — не специально написанные к случаю стихи, но они подходят к нему по характеру переживаний. Есть такой человеческий путь и осмысление смерти. Простите меня, я не считаю смерть чем-то отрицательным, я не настолько советский. Смерть — это такой же фактор жизни, как пьянство, веселье, любовь. То есть, к этому у меня отношение здоровое. Так что, вы заранее извините меня, что я буду читать о смерти… —
Дальше были стихи, акцентируемые музыкальными фрагментами. Сверх всяких ожиданий, музыка оказалась уместной, чтению не мешала и отличалась вкусом. К сожалению, ничего подобного нельзя было сказать о стихах. Они были многословны, претенциозны и откровенно беспомощны, как по словесному исполнению, так и по мысли, особенно же — по композиции, иногда бесформенной до прямого уродства. Интонационные заимствования бросались в глаза. Резали слух безвкусные рифмы, в духе пошловатого новаторства 1960-х, давно отброшенного современной поэзией. Невозможно было сомневаться: не автор владеет словом, а слова — потоки слов — владеют им, несут его очертя голову неизвестно куда, без руля и без ветрил. Временами становилось обидно до слез. Хотелось спросить: неужели опытный писатель, умный и образованный человек не понимает, что этот ребяческий провал, это позднее обращение к поэзии с негодными средствами, бросит пагубный отсвет и на его прозу?
Вот примеры.
|
Мой друг сидел, не уходил, Бубнил, как эхо, И не было взаимных сил, Чтоб он уехал. А я сидел, а я кивал, Мне было плохо, Пока он, все-таки, не встал. Простор для вздоха! И я с избытком широко Раскрыл окошко: Мол, воздух зимний и покой, Не так, мол, тошно. И отвратительный комок Из одеяла В пододеяльнике, как мог Расправил. Стало Мне легче, тише, я остыл. И было небо Рассветно красным и пустым, Сон сном и не был. Хотел я выскользнуть в окно И в одеяле Взлетел, как целое одно, На пьедестале. Но воздух зимний охватил Нагое тело, И я упал на пол без сил, Такое дело. (…) |
И так далее… — еще 18 (!) строф (всего, значит, 100 стихов) тем же «прыгающим шагом» (по определению Александра Кушнера), взятым у Фета Пастернаком для его изумительной Зимней ночи. Только очень далекий от поэзии человек не знает, что всякое прикосновение к этому редкому и опасному размеру (четырехстопно-двустопному ямбу) есть вызов Пастернаку и соперничество с ним, — и как же мелок Битов в этом — неосознанном им — соперничестве!
Затем были прочитаны стихи памяти Высоцкого, решительно ничем с ним не связанные, с такой концовкой:
|
Я не умер, я не умер, Я не умер — вот мотив. Неужели это в сумме Означает, что я жив? |
Затем — стихотворение Пред-верие:
|
В нем смерть уже гнездо свила, А он не замечает это, Стоит под тяжестью ствола, И виден под упадком света. (…) Он просит веры по ночам, Прощенья, умоляет Бога, И беспокойствие к ногам Спешит. Идти уже немного. Он спит. И значит он продолжит Вчерашний день не вспоминать, Пред ним живая матерь Божья, И мертвая родная мать. И снова листья шелестят На веточке отмершей ветви, И защищают от преврат Гнездо в дупле с яичком смерти. |

Рядом с прямым невладением словом идет тут невладение темой, — конкретной, избранной для данного стихотворения темой, и главной темой лирического поэта: его отношением с Богом. Если забыть о прозе Битова, а исходить только из стихов, то невозможно сомневаться: это отношение у автора едва проклевывается, в точности как у подростка, пробующего перо. Вернейшее свидетельство тому — неумение выбрать и выдержать тон вещи и цикла, — а ведь именно тон, background, сообщают им убедительность и в, конечном счете, является определяющим моментом каждого произведения. Битов словно не знает, серьёзен он или чуть-чуть шутлив, и эта неопределенность — худшее в его стихах.
Вообще, есть что-то пародийное в этом непременном желании немолодого прозаика быть еще и поэтом. Невольно вспоминается Горький, тоже всю жизнь мечтавший «написать хорошее стихотворение» — да так и не написавший. Битов словно бы лишь недавно открыл для себя, что писать стихи невероятно просто, куда проще, чем решать дифференциальные уравнения или играть на скрипке, — но он, похоже, еще не знает, как невероятно трудно быть настоящим поэтом.
1997, Лондон
газета ФОРУМ (Балтимор, Мэриленд) №32, ноябрь 1997.